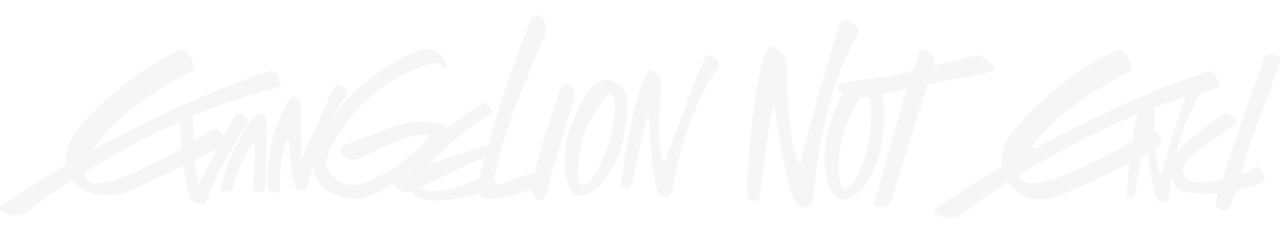Агри, вот задля этого здеся обитаюся йа =Р
Фсмысле, чтобы тему реанимировать в случае опасносте =)
Итак, мы пишем. Пишем, не из пальца высасываем, а всегда - основываясь на собственном опыте, ибо иначе выходит нечто совершенно невразумительное. Какие мысли мы доносим до читателя и как он на них реагирует? Мысли неглупые - "я примерно так же и думал" (это мы находимся в центре собственного жизненного опыта). Умные - "смотри, как интересно рассказывает" (здесь мы достигаем границ Ж.О.). Мудрые мысли - шире читательского опыта и (!) Ж.О. писателя. Как это возможно? Олди никогда не бывали в Древней Греции. Физически. Но вот они начинают лопатить тонны источников, скурпулёзно собирая материал - и вуаля, рождается целый цикл ("Герой должен быть один", "Одиссей, сын Лаэрта", "Персей"). Вот вам "три тайны карате: много слушать, много смотреть, много потеть" (Ладыженский).
Как мы пишем. Скобки (меняем на тире) и КАПСЛОКИ - не метод выражения мыслей. Вычёркиваем наречия (гуглите): каждому глаголу - по наречию, каждому существительному - по прилагательному: от этой практики следет отказаться. Ворд столь нелюбимый мною по пунктуации идёт лесом ("Осторожнее рассматривая, меня вы сильно рискуете", да? Дворкин образца `08). Следим за жужжанием (уже), шипением (ещё, вообще), или верх умопомрачения а-ля "О былой драке было забыто, будто не было её вовсе" (кто сколько найдёт схожих слов, посчитайте-ка, а?).
Тексту не следует быть излишне эмоциональным - а это серьёзная и распространённая проблема. "Они столько страдали и переживали, что мне, чтобы что-то почувствовать, нужно, чтобы мир "нагнули" (Громов). Нельзя наращивать сопереживание бесконечно - читатель тупеет, перестаёт воспринимать, становится бесчувственным. "Роман нельзя построить на эмоциях, роман - это здание: не рассчитаете нагрузку на балки - и он рухнет вам на голову, и читатель заодно" (Ладыженский). Вот здесь нам и пригодится вода, где читатель сможет позволить себе перекур.
Слишком открытое воздействие на читателя вызывает отторжение. Пишем тоньше, ех, многократное напоминание пугающего фактора притупляет страх. Способность воспринимать смешное ограничена. Постоянно хихикая, получаем обратный эффект. Здесь вырисовывается особенность творческого метода автора: убеждённость в том, что его шутки смешные. Но назойливый и многословный комик не имеет успеха у публики. Или же наоборот: засмеялся читатель пару раз - дальше продолжит по инерции в непредусмотренных местах, которые мы мним, как сурьёзные. Короткий образ работает лучше долгого объяснения. Демонстрация авторской образованности вызывает раздражение.
Зачастую автор затыкает рот персонажу, влазит на его место, стремясь быть на первом плане. Тогда персонажи превращаются в рупоры автора в вещании на публику. Или же это вылазит подспудно - тогда не следует примерять каждую реплику на себя, если сам автор - актёр не очень яркий. А мотивация персонажей? Она должна быть всегда, но не только у автора в голове. А вот ещё шутка: иногда персонаж видит и слышит то, что не должен, залазит в голову другим.
О чём пишем. Главная идея должна быть, считают Олди. Идея не должна быть декларативной, то есть высказанной одним из персонажей, к ней должен прийти читатель САМ. Читатель должен делать вывод, а не автор. "Автор не должен озвучивать идею" (Ладыженский). Смысл произведения - донести идею. Читатель воспринял иначе? - поражение. "Если вас могут понять неправильно, вас обязательно поймут неправильно; если не могут понять неправильно - всё равно поймут неправильно", - напоминает афоризм в тему Громов.
Жуйте. Непонятно - спрашивайте. Придёт Дорм и всё объяснит ХО
Серьёзно, систематизация материала - это кровь из глаз